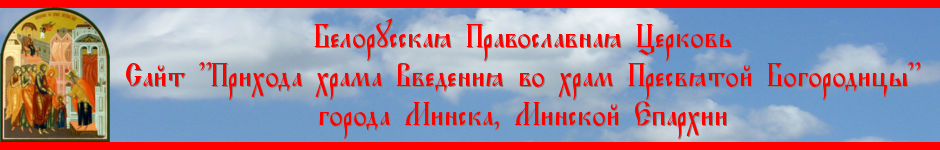Разговор о совести – один из самых непростых. И это потому, что хотя все мы в жизни испытываем угрызения совести, но не все реагируем на них одним и тем же образом.
Разговор о совести – один из самых непростых. И это потому, что хотя все мы в жизни испытываем угрызения совести, но не все реагируем на них одним и тем же образом.
Почему же люди не всегда позволяют совести заговорить? Одни потому, что слишком пристрастились к каким-то грехам, привязаны к ним и любят их ради того грубого удовольствия, которое они доставляют.
Другие потому, что сбиты с толку какой-нибудь идеей или теорией и думают, что зеркалом добра и зла служит что-то иное, а не наша собственная совесть.
Такой человек подстраивает свою совесть под распространенные в обществе мнения или модные поветрия, в которых отражаются новейшие идеологии.
И если для совести христианина зеркалом является Евангелие Христа, сам Образ Христов, сокрытый в глубинах его сердца с минуты Крещения, то мирской человек определяет свои жизненные ориентиры, думает и ведет себя, следуя духу мира сего, повсеместно господствующему в наше время.
Мирская, или ложная, совесть, называемая то «моральным», то «гражданским», то «политкорректным» сознанием, – это то, что сегодня так навязывается нам, прежде всего через масс-медиа, популяризацию науки и индустрию развлечений. Эта псевдо-совесть – самый страшный противник умственного здоровья и счастья современного человека.
Несколько лет тому назад я был крайне удивлен тем, какие извращения совести способны произвести идеологии наших дней. Разговорившись в Голландии с одной местной девушкой, я вдруг понял, в чем причина все более ширящегося принятия гомосексуализма на Западе.
Бедная девушка хотя и признавалась, что гомосексуалисты и лесбиянки вызывают у нее чувства брезгливости и отвращения, но твердила, что эти чувства примитивны и она должна настойчиво бороться с ними, пока полностью не избавится от них.
Потом я обнаружил, что часть молодежи начинает отстаивать гомосексуализм по той же причине: эти идеи им внушали с малых лет, так что в конце концов в их уме утвердилась мысль, будто это безумие является чем-то нормальным и даже желательным.
В целом почти вся нынешняя философия жизни разрабатывает и пропагандирует такие концепции, которые сводят совесть современного человека к псевдо-совести разума, вынужденного думать иначе, чем это свойственно сердцу или голосу Божию в человеке.
А в результате?
Если человек не выполняет того, что ему диктует сознание, зомбированное идеологией прав и удовольствий, он чувствует себя несчастным – даже если у него нет недостатка ни в чем, что нужно человеку для того, чтобы быть счастливым.
Если же он следует духу мира сего, думая, что так обретет свое счастье, то начинает все сильнее ощущать какую-то горесть в душе – по сути дела, пустоту, оставленную в душе грехом, – и угрызения своей подлинной совести.
Так, к примеру, многие женщины, избравшие жизнь ради семьи и родившие нескольких детей, чувствуют себя обделенными из-за того, что не состоялись профессионально или не «нагулялись» вволю, потому что «пожертвовали» своей жизнью семье.
Это говорит им ум, вскормленный теориями и веяниями времени, – хотя сердце их и отдыхает рядом с детьми и супругом, в тепле домашнего круга. Эти идеи, словно компьютерные вирусы, начинают свою атаку, заставляя поверить, будто она несчастна, и могут даже довести до всяческих конфликтов с мужем и детьми.
Однако подобный случай все-таки счастливый! На противоположном полюсе мы видим другую женщину: ради того, чтобы реализоваться профессионально, она откладывает создание семьи, она не упускает случая, чтобы получить как можно больше удовольствий – по возможности таких, «как в кино».
Можно встретить и таких мужчину и женщину, уже женатых, но отказывающихся от того, чтобы родить ребенка (или еще одного ребенка), из-за тех удовольствий, которых они могут лишиться, отдав свое время его воспитанию.
Хотя эти двое могут иметь все, что в телефильмах афишируется как необходимое для счастья, их сердца все больше гложет чувство какой-то бессмысленности всего происходящего вокруг. Голос совести твердит им нечто совершенно иное, чем то, что говорит ум и что они стараются продемонстрировать другим, показывая, что у них все как надо.
Они чувствуют себя несчастными… Отсюда депрессии, отсюда пьянство, наркотики или телевизор – как обезболивающие против тоски, разрывающей душу, когда они остаются наедине с самими собой.
Это драма современного человека, и здесь кроется причина большей части психических или соматических болезней, которыми он страдает. Ум, пораженный вирусом информации от масс-медиа или нездоровым воспитанием, путает добро со злом, выбирая, таким образом, нечто наперекор сердцу – то есть природе человека, каким его создал Бог.
Эта шизофрения, этот глубокий разрыв между умом, зараженным безбожным рационализмом идеологий времени сего, и сердцем выражает не что иное, как нашу оторванность от Христа.
Что же мы можем сделать?
Естественно, мы должны вернуться к истине, ибо только истина делает нас свободными и счастливыми. А это можно сделать только в Церкви, только во Христе.
Но беда в том, что сегодня становится все больше таких людей, которые часто посещают храм и даже исповедуются, однако ничуть не становятся лучше. Наоборот! Их жизнь мало отличается от самых что ни на есть мало верующих: нескончаемая вереница несчастий, внутренняя неудовлетворенность, конфликты, депрессии, впадение в большие грехи, разводы и прочее.
Глядя на них, другие с какой-то удовлетворенностью заключают: «И что пользы им от того, что они были верующими?»
Проблема вот в чем: наш ум, наши понятия, наш образ мыслей и чувств, отношение к миру и людям, окружающим нас, сообразованы не с Евангелием Христовым, а с духом мира сего, в котором многие из нас выросли и которым дышали, пока не грянули те испытания, которые привели (или вернули) нас в Церковь.
Разум, приученный к вседозволенности, гордый, накрепко перевязанный всякого рода фантазиями и атеистическими жизненными философиями, не дает направить себя в русло истины, того смиренномудрия, которое прислушивается к голосу совести и заповедям Божиим. Тем более когда человек уже пристрастился к порочному образу жизни, погрузился в него!
Так что одно только присутствие телом в святых храмах не сможет помочь нам, нужны перемена ума и отказ от страстных предпочтений – к которым, к сожалению, некоторые привязаны больше, чем к собственным детям, больше, чем к своей семье и здоровью, больше, чем к Христу.
Итак, нужна искренность и решимость противостать мирскому образу мыслей – идеологиям, которые через телевидение и Интернет внедряются в нашу душу. Разрываясь между миром и Богом, мы не сможем иметь спокойную совесть, не сможем состояться как люди и христиане.
Конечно, к этому труду по очищению и обновлению ума нехорошо приступать в одиночку. Нужно сначала как можно чаще ходить в церковь, чтобы приобщиться Духа Божия в святых тайнах.
И не только обращаться к Господу в молитвах, но и – и это существенно необходимо – как можно больше питать свой ум живительными словами Евангелия, житий и писаний святых отцов. Они обладают великой силой просвещать умы, они помогут нам взглянуть на мир, в котором мы живем, другими глазами и переосмыслить жизнь, уже прожитую нами.
Важнее же всего найти опытного духовника, свидетеля нашей совести и слова Божия, обращенного к нам. Ибо для того, чтобы распутать узлы страстных мыслей и желаний, сдавливающих наш ум и душу, мало одного торопливого и поверхностного исповедания нескольких грехов, вроде того: «Я ничего не украл, никого не убил и не прелюбодействовал!»
Этим мы лишь усыпляем свою совесть той мыслью, что якобы исполнили и свой религиозный долг – ничего существенного, однако, не изменив в своей жизни. Более того, этим своим двоедушием мы можем и прогневать Бога…
Не происходит ли большинство ссор и разводов в нашем мире как раз по той причине, что хотя супруги и живут вместе, но ум и сердце одного из них или даже обоих пребывают где-то далеко, в совершенно другом месте?
Если же и люди не желают с легкостью мириться с подобной ситуацией, огорчаются, страдают и расходятся через какое-то время, то насколько же больше должен огорчаться Бог, когда ум наш витает где-то далеко, а сердце прелюбодействует со всякого рода удовольствиями, хотя мы и называем себя самодовольно «христианами»?
Те, кто искренен и решителен, проходят путь от ума к сердцу за несколько недель, другие – за несколько месяцев или лет, в зависимости от того, как далеки они были от Бога.
Есть еще и такие, кто, всю жизнь простояв на паперти церковной, борются все с теми же немощами, что и вначале, – и их страстная вирулентность проявляется все сильнее и сильнее с прибавлением прожитых лет.
Причина тут одна: если мы не станем трудиться над тем, чтобы очиститься от духа мира сего, а будем лишь без конца искать извинений и оправданий нашим «маленьким» удовольствиям и совершенным грехам, мы никогда не сможем исполниться Духа Божия, никогда не сможем стяжать Его мир.
Итак, выбираем здесь мы – а не Бог, будто бы посылающий нам ту или иную судьбу! Наша жизнь, еще в мире сем, является наглядным выражением нашей решимости или нерешимости любить всем сердцем, всей душой и всем разумением своим Бога (см.: Мк. 12: 30).
Люди утратили мир.
 Вместе с привычкой приходит забвение. Привыкаешь к неприятной обстановке и уже не чувствуешь ее. Или же привыкаешь к хорошим условиям, и они кажутся тебе необходимыми.
Вместе с привычкой приходит забвение. Привыкаешь к неприятной обстановке и уже не чувствуешь ее. Или же привыкаешь к хорошим условиям, и они кажутся тебе необходимыми.
У привычки есть плюсы, потому что она позволяет нам забыть о пустяках, не обращать на них внимания, но есть у нее и большой минус: она может довести до того, что ты забываешь о себе, не обращая внимания на то, что необходимо для жизни, для нашего ума и души.
Например, на мир. Если спросить у людей, мир ли сейчас, они ответят, что не слышали, чтобы начиналась война. «Сейчас благополучие, а это признак мира», – скажут они как в телевизоре.
Но это только видимость, это ложь, которую мы слышали где-то, слышали везде – и привыкли к ней, потому что она пришлась нам по душе. Она не представляет нас как находящихся в кризисе, хотя, между нами говоря, именно эта благая обеспокоенность и могла бы вывести нас из кризиса, до которого довела нас эта самая ложь.
Однако в действительности дело обстоит совершенно по-другому. Тревога, беспокойство красной нитью, током высокого напряжения проходит через весь мир. То есть теперь мира меньше, чем когда бы то ни было за всю историю мира.
Но имеет место удивительное явление: чем больше шума, чем больше растет тревога, тем меньше люди отдают себе отчет в том, насколько помутились воды их ума и души! Богословы об этом не говорят – но у кого сейчас есть время на то, чтобы слушать богословов, тем более что и они сами пропитаны той же атмосферой так, что даже и не чувствуют ее?!
Анри Лефевр[1] изобличает одного из самых больших современных похитителей мира. Он известен под общим названием «культура потребления». Он в тесном контакте сотрудничает с рекламой, сферой развлечений, почти со всем тем, что называется коммуникацией и модой.
Чем больше у тебя желаний, подчеркивает французский социолог, тем меньшая их часть может быть исполнена, и тем больше ты чувствуешь себя ущемленным и несчастным.
Но не подумайте, что речь идет об обычном беспокойстве по поводу неудовлетворенных потребностей. Лефевр утверждает, что сейчас зарождается настоящий террор, способный довести некоторых людей до настоящих психических болезней. Впрочем, и в нашей стране, в Яссах, психиатры зафиксировали появление нового синдрома психической болезни, особенно среди молодых женщин, которые не в силах позволить себе того, чего хотят…
Тех, кто не может потреблять, терроризирует чувство неполноценности и осознание себя неудачником, а те, кто потребляет, на другом конце спектра сталкиваются с проблемой (а в некоторых случаях даже с ужасом) выбора, который они вынуждены делать на каждом шагу, – тревога, вызванная неуверенностью в том, что сделанный выбор окажется хорошим.
Реклама, вне всякого сомнения, подогревает состояние войны, и этот факт выдает даже язык, на котором о ней говорят. Почему она называется рекламной кампанией, почему разрабатываются рекламные стратегии, почему устанавливаются цели, если не для того, чтобы выиграть войну, которую кто-то ведет с потребителями – со всем населением мира?
Побочным эффектом рекламной войны, более сильным, чем изначальный вред от нее, является стресс по причине не выплаченных денег, взятых в рассрочку. Вначале он невелик, когда ты едва только сделал покупку и тешишь себя удовольствием обладать желанной мебелью, машиной или плазменным экраном в гостиной, однако долги растут – да плюс ко всему еще и начинается кризис!
Так что бедные люди однажды оказываются перед тем фактом, что им придется работать всю свою оставшуюся жизнь, – это самое меньшее, если не две жизни или три! – чтобы выплатить те долги, в которые они влезли за несколько лет. Где-то произошла ошибка, но у кого теперь есть время выяснять это, когда взносы нужно уплачивать – а если нет, придут и отнимут жилье!
Я знаю людей, которые совсем лишились душевного мира. По природе это веселые люди, оптимисты, но, несмотря на это, им становится всё тяжелее улыбаться и всей душой радоваться жизни. «Что толку от всего, что мы насобирали, когда мы лишились покоя? Как жаль, что мы поняли это так поздно», – это для тех, кто понял.
И наконец, самая большая беда не в этом огромном долге перед банком, а в потере веры, вследствие чего человек чувствует себя одиноким и находящимся в безвыходном положении. Это хуже, чем в самых кровопролитных войнах прошлого, когда люди надеялись даже в самых невозможных ситуациях – ведь жизнь и смерть находятся в руке Божией…
Все кажется красивым на экране телевизора и в модных журналах; средства массовой информации вообще стараются убедить нас, что мы живем в лучшем из возможных миров, – и это прежде всего потому, что у нас имеется столько способов прекрасно провести время.
Но сам телевизор, согласно аналитикам-политологам и социологам, как раз и есть самый крупный террорист за всю историю мира. Дж. Гербнер, А. Бергер и многие другие констатируют, что пропорционально насилию, показанному по телевизору, – выдуманному или реальному, взятому из новостных программ, – растет чувство небезопасности, неуверенности в других людях, страх и ужас. Старикам страшно выйти из дома, а у детей регистрируются психические состояния, близкие к посттравматическому синдрому.
Средства массовой информации вообще подогревают состояние паники, чрезвычайной ситуации. В новостных программах всегда присутствует тон «апокалипсиса». Нельзя не начать волноваться, как только заслышишь речь на фоне тревожной музыки, даже если говорят о чем-то обычном, – не говоря уже о случае с «криминальными новостями», когда излагаются самые отвратительные преступления…
Не подумайте, однако, что люди бегут от волнения подобного рода. Парадоксальным образом они привыкают к волнению и уже не могут без него. Оно действует как наркотик, по принципу «порок вызывает зависимость».
Механизм прост. Развлечения – в частности телевизор, музыка и все то, что сильно возбуждает чувства, – выводит людей из себя, паркует их где-то на периферии их существа, где им и дела нет до того, что у них есть душа, есть глубина, внутренний голос, совесть.
В это время, пока нас нет дома, внутри у нас нарастает хаос и безумие. Потому что всё, в тревоге пережитое нами где-то среди людей, все совершённые грехи отражаются внутри нашей души – осознаём мы это или нет.
Так что когда мы возвращаемся домой и наступают минуты покоя и одиночества, мы сталкиваемся лицом к лицу с колоссальной внутренней борьбой: неудовлетворенные желания – фрустрации, страхи, тревоги и волнения.
Внутри нас уже водворился дух мира сего. Где же выход? В возвращении во внешний мир, в шум площадей, стадионов, дискотек или хотя бы в шум и сильные впечатления телевизора – который зачастую не выключается, пока не уснешь, и включается спозаранку тут же, как только проснешься.
Но, как и в случае с наркотиками, этот путь не может привести никуда, кроме как к скатыванию вниз. По причине постоянного снижения чувствительности к стимулам – своего рода адаптации мозга к переживанию острых ощущений – возникает потребность во все более сильных чувствах, что и объясняет скатывание в телевизионное насилие, доведенное до крайности, а также во всё большее потребление порнографии.
Так появляются новые причины для волнения. Насилие порождает гнев и насилие. Порнография требует удовлетворения, то есть блуда, новых партнеров, – так возникают конфликты с совестью и тысячи других мотивов, приводящие людей к тревоге и отчаянию.
По сути дела, отсутствие мира в душе – это цена, заплаченная за культуру потребления, за проведение времени перед телевизором, моду, развлечения вообще. Этого вам кажется мало?
Тревога проникла в мир и держит в своих руках человечество больше, чем в периоды войн. Но как раз это и служит признаком того, что мы находимся в состоянии войны.
Мы вовлечены в парадоксальную войну, в которой нас взяли в союзники для того, чтобы мы воевали против самих себя, против Бога. Ибо все описанное до сих пор – это не что иное, как проявления краха, к которому пришло человечество, выбравшее жизнь без Христа.
Мир, который положился на Дарвина, дошел до того, что стал жить хуже, чем обезьяны, которым тот поклонялся. Без Христа люди никак не могут снова обрести душевный мир, дарованный им Богом при рождении.
Ни песни уже не будут исходить из глубины души, как когда-то пели их крестьяне в поле, ни утренние рассветы уже не будут такими ясными, ни вечера такими безмятежными и навевающими покой…
Для многих эти слова бессмысленны. Им трудно принять тот факт, что они живут во лжи настолько тревожной жизни, что некоторым образом ад уже начался здесь.
Одни ищут материального выхода из долгов: «Разве Христос может выплатить мои долги?», – думают они недоверчиво. Другие обманывают себя, пытаясь доставить себе еще немного телесного удовольствия. «Все равно умирать», – говорят они себе, чувствуя дыхание смерти всё ближе, но не сознавая страшных последствий этого до самых последних минут.
Таков общий знаменатель современного мира – тревога и беспокойство. Вся культура развлечений создана специально для того, чтобы скрыть это положение дел, которое она, впрочем, обостряет и делает хроническим вплоть до самых тяжелых последствий.
На другом полюсе, однако, нас ждет Христос. Он, распявшийся за весь мир, даже за тех, кто сегодня не желает знать о Нем или, самое большее, смотрит на Него как на религиозное подспорье для достижения материальных успехов в жизни сей…
Христос приходит, чтобы предложить нам мир Свой, — и это кажется не очень ценным на фоне бесконечных предложений современного мира. Но кто вкусил мир Христов, тот спокойно спит ночью, тот радуется каждому восходу солнца, улыбке ребенка, каждому цветку. Сама жизнь становится для него песней, и каждый день — праздником.
Да. Даже если у нас есть долги в банках, которых не выплатить иначе, кроме как за десять человеческих жизней, даже если мы погрязли в грехах, одно упоминание о которых для человека невыносимо, даже если мы потеряли всякое самоуважение, благодать Святого Духа может внести в наши души мир Христов, – если мы до этого примирились с Ним, открыв Ему все наши грехи, – и Он возьмет на Себя их бремя.
Нас жестоко обманули. Имя счастья – не «развлечение», а «внутренний мир». Кто познал его, тот не насытится им никогда, он утоляет им и жажду, и голод, желание нового и потребность в утешении.
Прошу вас, вкусите этот мир Божественный, который дают чистая исповедь и причащение Тела и Крови Христовых, мир, который дает молитва непрекращающаяся, когда ум очищается и просветляется…
Мир, мир не может сделать нас счастливыми, хотя и обещает нам это. А Бог не разочаровал еще никого, никогда, — прошу вас, поверьте в это и передайте другим.
И это – пока еще не поздно для вас, для каждого из нас, пока еще не обрушились на нас другие войны, когда мы не будем чувствовать и сердца в груди от волнения, а о мире люди и говорить уже перестанут, забыв даже и вкус его.
До этих пор – много ли, мало ли, не знаю – но у нас есть еще время обрести мир в душе, самое важное дело в этом мире, мир, который подает нам Христос – Сам, Своим присутствием, внося его в наше сердце.
Георгий Фечору
Перевел с румынского Родион Шишков
pravoslavie.ru
[1] Анри Лефевр (1901–1991) — французский философ и социолог, неомарксист.